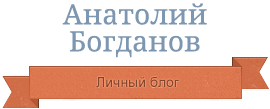Как я пришел в электронную микроскопию
Когда слабеющее око
астигматизма не узрит,
Декан, расстроенный глубоко,
меня на встречу пригласит
и скажет мне проникновенно:
-Заслуга ваша несомненна
и наша велика печаль,
нам расставаться с вами жаль,
но... вы для микроскопов стары...
Возьмитесь-ка за мемуары,
направьте взор в седую даль...
А мы хвалу вам воздадим,
почетну грамоту дадим!
Но, если очень захотите,
на чашку чая заходите,
а может быть и на коньяк.
Ну, заходите просто так!
И вот, последовав совету,
страницу начинаю эту...
КАК Я ПРИШЕЛ В ЭЛЕКТРОННУЮ МИКРОСКОПИЮ
Автобиографический очерк
(Курсивом набраны отступления от главной темы, которые в этом очерке
не тянут на отдельные главы, но обойти их молчанием здесь просто невозможно)
Ключевую роль в том счастливом повороте судьбы, которая привела меня в электронную микроскопию, причем в одну из самых интересных областей ее применения - биологическую микроморфологию, сыграли два древних изобретения человечества, к которым я в юности приобщился: пиво и шахматы. Несколько следующих страниц можно читать по диагонали, потому что там ни того ни другого еще нет, но лучше все же по порядку.
Школа, работа, институт. 1963 - 1968
Есть в Москве на улице Сретенка замечательная школа № 610, и мой класс 11Б был лучшим классом нашего выпуска 1966 года по числу интересных личностей. Отличников среди нас было не так уж много, но получать тройки было стыдно. Лично у меня были пятерки по любимым предметам - химии, физике, электротехнике и английскому, и четверки по всем остальным. Мы как-то быстро сдружились, и стали встречаться вне школы. Ходили с палатками на Глубокое озеро под Звенигородом с инструкторами из учебного цеха, а потом и сами, под моим "руководством", на Истринское водохранилище и в Снегири, где облюбовали для стоянки высокий берег Истры напротив деревни Лужки. Собирались и в Москве, если у кого-то оказывалась пустая квартира. Умеренно выпивали, танцевали, слушали Битлов и другие рок-группы того времени, Окуджаву, Высоцкого, Городницкого, Никитина...Слово Барды появилось позже, а тогда это были просто авторские песни под гитару. В нашей школе был учебный цех одного очень известного п/я, позже получившего открытое название НИИ Автоматической Аппаратуры, и вместе с аттестатом мы получили квалификацию радиомонтажников 3 или 4 разрядов. В параллельных классах готовили слесарей-сборщиков аппаратуры и чертежников-конструкторов, но я к тому времени уже имел некоторый радиолюбительский опыт, и выбор профессии был однозначен. Мне нравилось паять! Ну и конечно разбираться в электронных схемах. Благодаря реформе школьного образования, в этом же году одновременно с нами, 11-классниками, закончили школу и 10-класники, поэтому конкурс поступающих в ВУЗы был почти вдвое больше обычного. Как и добрая четверть моих одноклассников, я пошел по линии наименьшего сопротивления и поступил на работу радиомонтажником на опытное производство НИИАА, и на льготных условиях (тройка - проходной балл) на заочно-вечернее отделение МИРЭА по специальности Радиотехника.
Забегая вперед расскажу, что через 21 год после окончания школы, наш одноклассник Валера Кузьмин, мой друг и самая неординарная личность в классе, собрал нас всех в квартире Веры Летуновой, главной классной певуньи и неисправимой оптимистки. Мы к этому времени уже стали профессионалами, родителями, обозначились и проблемы со здоровьем, с детьми, но оказались так интересны друг другу, что расставаться не захотели, и с той поры каждый год, в середине января, стали встречаться у Веры в Теплом Стане, а потом у Валентина Скальского на Рязанском проспекте. С годами нас становилось меньше, и каждый раз первую рюмку мы выпивали стоя, в память об ушедших. Мы продолжали так встречаться с 1987го по 2021й, пока коронавирус не устроил нам длинный перерыв. Теперь встречаемся только в сети и под Новый год обмениваемся звонками и письмами. И каждый раз, видя письмо или звонок одноклассника, душа замирает в тревоге: неужели еще кто-то ушел...
Проработав в НИИАА года полтора, набравшись опыта и почувствовав себя неплохим радиомонтажником, я вслед за своим бригадиром Володей Коршуновым перешел в конструкторский отдел ВНИИ Оптико-Физических Измерений, который располагался в старом обшарпанном особнячке на набережной Москвы-реки. Работать стало интереснее - там уже не было серийной продукции, каждый блок аппаратуры был единственным, и радиомонтажники работали в прямом контакте с разработчиками. А вот с учебой как-то не сложилось - поступил в институт легко, а интерес не появился. Все было как в школе: математика, физика, химия, английский, история КПСС, а спецпредметами, т.е. радиотехникой, и не пахло. Кое-как переполз на 2й курс, набрал хвостов, поскольку в школе привык серьезно заниматься только тем, что интересно, а остальное как-нибудь, на четверку, а в институте это не проходило, там и тройку надо было заработать. Да и вообще, хотелось как-то оторваться от родителей и почувствовать себя мужиком. А тут еще неразделенная любовь к бывшей однокласснице... Я события не торопил и был согласен на дружбу, но когда за ней начал ухаживать парень из нашей институтской группы, высокий и несуразный, с выступающей челюстью, - полная противоположность такой гармоничной личности, каковой я себя тогда тайно считал... Друзья предлагали "поговорить" с ним, но я запретил. Это был Её выбор.
И как же мне было приятно лет через 20 посмотреть на нее и послушать про их счастливую семью... Она осталась такой же симпатичной, но ее самоуверенность и категоричность достигли максимума. В общем, я возблагодарил судьбу.
Когда внутренний раздрай стал невыносим, я оформил в институте академку, пошел в военкомат, что в Армянском переулке, и попросился послужить по собственному желанию. Оказалось, что призыва в радиотехнические войска нужно ждать 2 месяца, в погранвойска - месяц, а в стройбат - всего 2 недели. Его и выбрал. Нравоучения друзей были невыносимы: - Как, зачем, потерянные годы, кто тебя гонит... Собственное желание уехать как можно скорее резко усилилось. А когда мы, группа призывников, в день отъезда в часть забрались во дворе военкомата в кузов грузовичка, в группе провожающих и машущих руками я нашел и мою одноклассницу Наташу, которую очень уважал за серьезное увлечение биологией, классической музыкой и авторской песней, мы оба собирали грампластинки и обменивались записями. Но сейчас на ее глазах были слезы. Вот и думай ... Потом у нас наладилась переписка, и Наташа становилась мне все ближе. Но это, и многое другое, было потом.
Путь в неизвестность
Грузовичок отвез нас на сборный пункт Пресня, где пришлось подождать пока нас разберут "покупатели" - представители воинских частей, занимавшиеся пополнением, и развезут по своим частям. Мы сидели и валялись на деревянных лавках, типичных для вокзальных залов ожидания, и, отсидев и отлежав все части тел, глазели в окна, за которыми была видна стена с зарешеченными окошками. Сопровождающий нас сержант сказал, что это Пресненская пересыльная тюрьма. Это конечно не улучшило настроение, а в подтверждение сказанного мы увидели, как из одного из зарешеченных окон свесилась на веревочке свернутая в трубку записка, и стала медленно опускаться, пока чья-то рука этажом ниже ни поймала ее. Время от времени к нам подходили старослужащие из команды сопровождения с вежливыми просьбами "Скинуться по рублю или сколько не жалко старичку на дембель, - поскольку нам-то деньги теперь не скоро понадобятся, а в части их все равно отберут". Ребята верили и не жадничали.
Наконец нас разобрали по группам и посадили в старенькие плацкартные вагоны. Поехали медленно, с долгими остановками. Захотелось есть, но кормить нас никто не собирался. На все вопросы типа Когда и Куда ответ был один: Уже скоро. И правда, через несколько часов приехали на станцию Едрово, построились, нас снова разделили на группы и посадили на крытые грузовички, кажется ГАЗ-66. Потом я много ездил на них, и более трясучей машины не встречал. Примерно через час мы уже были на месте, снова построились, нас распределили по отделениям, представив командиров, и наконец отвели в столовую, где вполне прилично покормили. Потом переодели в то, что называлось "Форма ВСО". Ну и конечно кирзовые сапоги с полотняными портянками. Можно было спокойно выдохнуть, служба началась.
Стройбат. 1968 - 1970
Военно-строительный отряд (ВСО) в котором я оказался, заканчивал постройку объектов "ракетного щита Родины" в Новгородской области под Валдаем. Наша рота стояла у деревни Горушки. Мы жили в лесу, в больших палатках, каждый взвод отдельно. Недалеко в лесу были 2 небольших торфяных озера, тихих и очень живописных. Две недели карантина со строевой подготовкой, параллельно нас учили копать траншеи под кабели, потом присяга - и на работу. Автоматы дали подержать в руках только на присяге, но мне не повезло: шли межотрядные спортивные соревнования, и всех умеющих играть в шахматы отвезли в день присяги в соседнюю часть. Сыграли мы хорошо, заняли 2е место, но автоматы в руках так и не подержали. Получили военные билеты с записью о принятой присяге, и все.
Кормили хорошо и достаточно, мне хватало, хотя поесть любил всегда. Но были в нашем взводе и отдельные личности, которые смотрели голодными глазами и тихо спрашивали тех, кто ел лениво: если ты не хочешь, я могу доесть. Это был нервный голод, реакция на насильственную перемену обстановки. Мы довольно часто отдавали этим вечно голодным доедать по полмиски, хотя и повара иногда предлагали добавку, особенно супы. Меня больше доставали комары и баня раз в 10 дней, а потом появились еще и вши, которых приносили самовольщики, бегавшие на свидания и за водкой в соседние деревни. Тут начальство всполошилось, и нас стали чаще мыть. В банной палатке, в переходе из раздевалки в моечное отделение стоял санинструктор с широкой малярной кистью, которой он делал каждому входящему щедрые мазки жидким вонючим мылом внизу живота и под мышками. А форму, пока мы мылись, пропаривали в автоклавах банной машины.
Была и дедовщина, страшные слухи доносились до нас из соседней роты, был даже показательный суд, и двоих стариков посадили за организацию массовой драки. Может поэтому наши старики больше ворчали на нас, обзывая салагами, а рукоприкладства практически не было. Были с их стороны мелкие приставания типа Сбегай, подай, принеси, но они относились к тем пришибленным ситуацией ребятам, которые всем своим видом показывали тоску и покорность. Наверно имело значение и то, что в нашей роте примерно 3/4 состава было нового призыва из Москвы и Питера, а остальные - старый призыв из Казахстана, Украины, Татарстана. У них были свои тёрки, и они разбирались между собой. Ко мне никто не приставал, видимо чувствовали некоторую разницу в возрасте и тот факт, что я сюда пришел сам, а их "пригнали". Был смешной эпизод, когда ко мне подошел один из стариков, худой и долговязый украинец по фамилии Зозуля. Его мало уважали даже в своем призыве, настолько он был застенчив и заторможен. Я внутренне напрягся, а он тихо попросил: "Слушай, давай с тобой махнемся рЕмнями (именно так это говорилось, не ремЕнь, а рЕмень). Мне скоро на дембель, и хорошо бы придти домой с новым рЕмнем, а ты себе еще достанешь." Я посмотрел на его рЕмень и с охотой поменялся: у него был настоящий кожаный, мягкий, хотя и довольно потертый, а у меня новый, из блестящего жесткого кожимита. Мы поменялись, пожали руки и разошлись, оба довольные приобретениями.
Командиром нашего взвода был сержант по имени Учкун (в буквальном переводе - 3 дня). Фамилию не помню. Ростом и фигурой он не вышел, но шебутной был такой, крикливый. Как-то раз мы его сильно разозлили, и первопричиной был я, но ребята не выдали. Дело было сразу после отбоя, заснуть еще не успели. Кто-то из наших молодых громко пукнул под одеялом, и получил замечания с соседних коек, типа "Раньше не мог? А мы нюхай теперь...". Тут черт дернул меня за язык: я посоветовал зажечь газету и походить с ней по палатке, пока вонючий газ не сгорит. Тут же последовал вопрос: "А что, он правда горит?" - "Конечно горит, это же сероводород, H2S. При сгорании получается SO2 и вода". Тут же кто-то зажег спичку и, сбросив одеяло, пукнул. В темноте была ясно видна голубая вспышка, по палатке прокатилось удивленное Ух тыы... . Эксперимент был немедленно повторен еще несколькими военными строителями под дружный хохот остальных и советы держать спичку подальше, чтобы не опалить зад. Тут-то и вошел сержант Учкун. В его эмоциональной речи было только одно печатное слово "Кто ?!!! " . Он поднял всех, заставил проветрить помещение и пообещал завтра с нами разобраться. Что было завтра - точно не помню, но история стала известна всей роте. Никого не наказали, хотя наше отделение состояло в основном из молодых. Наверно в уставе такие действия не были прописаны. А сержант Учкун стал объектом шуток.
Поздней осенью 2 отделения нашего взвода переселили на железнодорожный разъезд, где мы грузили в вагоны и на платформы имущество нашей части для переброски на западную Украину. Жили мы в палатках с печками-буржуйками, без подъема-отбоя и построений. По вечерам Володя Хорин пел нам под гитару грустные дворовые песни, из которых нам особенно нравились Дорогая пропажа и Я к тебе не приду. Наша московская компания оказалась вся вместе, и мы как-то психологически объединились. Сережа Гордеев давно уже придумал всем клички: сам он стал Серый, Володя Хорин - Блатной, Костя Потемкин - Князь, Женя Пичугин - Граф, Андрей Рожков - Сёма или Семён , ну а я - Стюдент. Были среди нас, москвичей, и страдающие личности:, например, Володя Долгих. Он был тих, молчалив и печален. Если и улыбался, то улыбка была какой-то виноватой. Забегая вперед скажу, что уже на 2м году службы, на Украине, он нашел себе спокойное место, вызвавшись работать в свинарнике, который поставили на территории нашей главной штабной точки. От него шел такой аромат, что на вечерней поверке он становился в конце строя, отдельно, у самого входа, а потом ему просто разрешили не приходить в роту. При выкликании его фамилии кто-нибудь отвечал "На рабочем месте". Там он и спал, на сене, рядом с хрюшками.

Наше отделение грузчиков. Стоят молодые москвичи: В.Хорин, А.Богданов, С.Гордеев, А. Рожков,
через одного в заднем ряду В.Долгих, крайний справа Е.Пичугин.
Сидят 4 старика:, в 1 ряду ком.взвода ст.сержант Учкун и ком.отд. Елизаров (с гитарой),
во 2м ряду Кириллов и Гараев. Кого не назвал - имен не помню.
Хмельницкая область
Наконец все имущество части было погружено и отправлено, нас тоже посадили в плацкартные вагоны и через пару дней, малой скоростью, мы приехали в Хмельницкую область, чтобы в соответствии с логикой холодной войны продолжать строить ракетный щит Родины. Отдельные роты раскидали по точкам не сразу, нужно было время на постройку быстросборных казарм, и какое-то время мы жили в большой кирпичной казарме, за каменной стеной. В стене были дыры, через которые шло общение с местным населением. Уже в первый день прошел слух, что горилка здесь вдвое дешевле, чем в Новгородской области, откуда мы прибыли. Денег у рядового состава практически не было, однако, бутылки, заткнутые кукурузными початками стали все чаще появляться, и даже мы, молодые, местную горилку попробовали и оценили высоко. Скоро всем стало в буквальном смысле очевидно, на какие шиши покупалась горилка: все больше ребят сменили защитные военные бушлаты на черные "колхозные" телогрейки, а кирзовые сапоги на резиновые. Местное население высоко ценило все военное.
Седьмого ноября после завтрака все наши 5 рот были построены для торжественного марша, ждали выхода командира части и его поздравительной речи. Командир, подполковник Зоргач, появился перед строем, принял рапорта ротных и поднялся на помост с ограждением, типа трибуны. Оттуда ему стали лучше видны новые особенности обмундирования вверенной ему воинской части. Он долго молчал, потом выругался и ушел. Поздравление вместо него произнес начальник штаба. После этого дыры в стене заколотили и общение военных строителей с населением прекратилось. А скоро нас развезли по точкам, поселили в сборных щитовых казармах, и строительная работа продолжилась. Как и в Новгородской области, мы копали траншеи с точно заданным профилем под кабели и дренажные трубы, ставили бетонные столбы и тянули по ним колючую проволоку и сигнальные провода, мостили дороги, как настоящие так и ложные, кто умел класть кирпич - строили 2-этажные Карпомы - караульные помещения, плотники строили ложные коровники высотой около метра. Некоторым "повезло" и они по круглосуточному графику копали вертикальные шахты вместе с профессиональными проходчиками. У этих бригад проходчиков не было подъемов и отбоев, и кормили их отдельно. Мы только и видели их в столовой или спящими в ротной казарме. Кстати, моя приобретенная привычка копать траншеи прямоугольного профиля, как требовали военпреды, сильно помогла в будущем целому коллективу. Читайте автобиографический рассказ Шабашка. https://agbogdanov.ru/poetry/view/255
Я оказался самым образованным в роте и скоро был избран комсоргом взвода, а потом и членом комитета комсомола части. На втором году службы, после демобилизации секретаря комитета Евгения Богданова, замполит выдвинул на это место меня, чтобы ему не привыкать к новой фамилии. Работать комсомольским вожаком в армии несложно - все делается в приказном порядке. Например, к 100-летию В.И.Ленина в 1970м был объявлен ленинский призыв в комсомол. Замполит вызвал меня и приказал - принять не менее 20 человек! Нам повезло - только что призвали 50 ребят из западной Украины, и среди них ни одного комсомольца, что было редкостью. В Казахстане, например, в комсомол принимали перед призывом прямо в военкоматах, причем учетная карточка и военный билет часто были первыми документами этих ребят. Меня удивляло частое повторение дат рождения наших казахов - 1 мая и 7 ноября! Они объясняли это так: "Меня спросили, когда родился, я и сказал. А что, хороший день, праздник".
Так вот, пошел я в карантинную роту и стал раздавать ребятам анкеты, объясняя важность членства в ВЛКСМ для военнослужащих. Анкеты брали дрожащими руками, с явным страхом и отвращением. После осторожных расспросов выяснилось, что у них в западно-украинских селах комсомольцев нет и быть не может, там вообще советская власть весьма условна. Один парень прямо сказал: Если отец узнает, он меня убьет! - Я наивно спросил: А как он узнает? - и пообещал поездку на вручение комсомольских билетов в г.Хмельницкий, в политотдел, с последующим посещением кино и столовой с бутылкой пива на каждого. Диковатые деревенские парни, пришибленные карантинной муштрой и однообразной землеройной работой, повеселели, и мне осталось только сфотографировать каждого, помочь заполнить анкеты, ну и выполнить свое обещание. Мы приняли 50 человек! Замполит сиял, его отметили в приказе по управлению, а я получил 10-дневный отпуск, во время которого окончательно убедился, что Наташа в Москве меня любит и ждет. Я получил также благодарность политотдела Управления инженерных работ "За хорошую организацию Ленинского приема в ряды ВЛКСМ" с занесением в учетную карточку. При этом мне даже простили полный провал Ленинского зачета в ротах, который обнаружила комиссия политотдела во главе с вредным капитаном, с которым я имел наглость поспорить "за политику".
Перед отъездом в отпуск меня вызвал парторг части и завел разговор о моих организационных способностях и реальной перспективе перейти на комсомольскую, а затем и на партийную работу. Для этого мне нужно было сейчас написать заявление о приеме в кандидаты в члены партии, а потом, возможно, остаться на сверхсрочную службу, хотя бы на год. Я уже тогда интуитивно чувствовал то, что потом хорошо сформулировал Евгений Евтущенко: "Дай Бог не вляпаться во власть...", но попросил время подумать. Съездил в отпуск, вернулся в часть усталый и счастливый, и не показываясь начальству затаился на самой дальней свободной койке в своей роте и беспробудно спал почти сутки. Проспавшись, пошел к друзьям в санчасть и попросил постричь наголо, как ни жалко было расставаться с волнистой шевелюрой. Когда парторг при встрече спросил, готов ли я написать заявление о приеме кандидатом в партию, я нагло снял пилотку и сказал что-то типа - Это ведь никуда не уйдет, так пусть хоть волосы отрастут для фото на кандидатскую карточку. - Дуррак ! - ответил умный парторг, плюнул под ноги, и больше разговор при партию не начинал.
Время моей службы, с 1968 по 70й, хотя и называлось брежневским застоем, но было тревожным - именно в эти годы наши танки вошли в Чехословакию, а на реке Уссури наши сцепились с китайцами из-за острова Даманский. Пошли слухи, что одну из наших рот пошлют туда, строить укрепления, и что наконец-то дадут автоматы и научат стрелять. Кто был в тревоге, а кто и писал рапорта с просьбой послать туда, на Дальний восток. Я относился к этим событиям пассивно, не имея смелости выбрать между перспективой новых впечатлений (будет что вспомнить) и желанием скорее вернуться домой, к Наташе. Но послали только одну роту из нашей части.
Все, кто служил в то время знает, что комсомол был помощником партии, а в армии комсомольские вожаки просто обязаны были быть стукачами. Я не сразу понял, что унаследовал эту репутацию от предшественника, однофамильца Евгения, а когда мне дали это понять - разработал программу реабилитации: стал докладывать замполиту только о тех нарушениях устава, о которых уже и так знала вся часть. Пьянство, драки, длительные самоволки - для стройбата это было нормально. Зато помогал с внеочередными отпусками тем, кто получил от девушки плохое письмо, у кого заболели родители и т.д. Шел в этот взвод и объяснял что делать. Взвод неделю ударно пахал, я славил его в радиогазете и боевых листках, особо выделяя военного строителя Н. Потом писал рапорт с предложением его поощрить, и парень ехал домой на 3 дня не считая дороги. Это было оценено, тем более что в стройбате очередные отпуска были положены только офицерам, и громкие разговоры в ротах больше не обрывались на полуслове с моим появлением.
Траншейная война
Последним испытанием на моем посту комсомольского вожака оказался землеройный аврал (он же траншейная война). В систему управления западноукраинского района ракетного щита Родины понадобилось срочно добавить несколько десятков км кабельных линий связи. Большие участки траншей копала тяжелая техника - роторные экскаваторы, а участки со сложным рельефом: лес, кустарник, заболоченные луга, мелкие речки - где эта техника не проходила - должен был копать брат-стройбат кирками, ломами и лопатами. Я в это время уже собирался сдавать комсомольские дела, но пришлось поработать и физически и головой. Роты с утра развозили по разным участкам, мне давали план, где кто работает, и я мчался на попутках туда. Записывал ребят, которые по мнению коллективов и их командиров заслуживали поощрения, выпускал мини стенгазеты - Боевые листки. Там, где народ уже выдыхался, копая траншеи на заболоченных участках на пересменку по колено в воде, сам лез помогать в траншею. Зная свою склонность к простудам, был уверен, что заболею, но почему-то мокрые ноги в этот раз не сработали.
В этой траншейной войне был и один смешной эпизод. Я приехал для сбора материала в Боевой листок во 2ю роту, командиром которой был парторг. Траншея шла прямо через село по длинной сельской улице и была уже наполовину готова. Я сделал десяток фотографий, записал фамилии передовиков и хотел уже уезжать, но в роту привезли обед, и мне тоже предложили поесть. В это время старший нормировщик части Володя Кривошеев, высокий и неуклюжий на вид, но мудрый философ из Саратова, с хитрой улыбкой отозвал меня в сторонку и повел к полуразвалившейся хате без одной стены, стоявшей на отшибе и явно брошенной. Ну, думаю, нашел икону, это была его тайная страсть, но он нашел на чердаке 10-литровую бутыль вишневой настойки, почти черной и непрозрачной, и довольно вкусной. Градус практически не чувствовался, мы выпили по полной кружке и пошли обедать. В бутыли почти не убавилось. После обеда зашли еще раз на чердак, выпили еще по пол-кружки и угостили старшину роты. Хороший мужик, душевный, я был у него в карантинной роте с первых дней службы. Что-то потянуло в сон, градус все же дал себя знать. Прилегли тут же в хате, на сене. Разбудил старшина, сказал, что приехал командир части и надо идти на построение. Батя выслушал доклад ротного, похвалил роту за ударный труд и уже пошел к командирскому газику, но тут к нему подошла горбатая бабуля и что-то долго говорила, показывая палкой на ту самую хату. Нам стало не по себе, мы поняли, что хата была не бесхозной. Батя повернулся к строю, и сказал, что среди ударников нашелся подлец, тайно ограбивший дом старушки. И велел ротному найти гада и наказать. Народ переглядывался и перешептывался, но никто ничего не сказал, а может и не заметили.
На следующий день на утреннем разводе батя толкнул пламенную речь. Сказал, что в санчасть обратилась почти четверть 2й роты за средством от поноса, так что искать воров, выпивших бабушкину настойку, не нужно, - они сами себя наказали и покрыли позором. Мы с Кривошеевым и старшиной переглянулись, ничего не понимая. У нас-то с животами было все в порядке. Все разъяснил потом санинструктор Кайдар Тулетаев, прекрасный парень, мой постоянный партнер по ночным шахматам, школьный учитель из Казахстана. Оказалось, что 2я рота вернулась в часть поздно, и ей достался частично подгоревший ужин со дна котла. Оттуда и понос, а бабкина вишневка не причем. О ней рота так и не узнала, нашу тайну никто не выдал. Было стыдно и смешно.
Старики
Последние несколько месяцев я провел на дальней точке в своей родной 3й роте, командиром отделения молодых западно-украинцев. Это был набор типажей, попавших в новую обстановку и старающихся выживать в соответствии со своими представлениями. Большинство ребят были молчаливые работяги. Копали как было размечено, молча исправляли по моим указаниям профиль траншеи, помогали докопать норму тем, кто работал медленнее. Но были и 2 вредных типа. Один - шумный задира и драчун, цеплявшийся к своим по мелочам. На любое замечание - вопль, "Почему я? А вот он!..."
С ним было просто - предупреждение, еще одно, потом наряд вне очереди на уборку казармы. А вот второй (имя помню, но не назову) - тихий подлиза и ябедник, пытавшийся услужить старшему. Я сначала игнорировал этот шепот, потом цыкнул, а когда не помогло - озвучил пару его доносов в присутствии всего отделения. Помогло.
Рота стояла в березовой роще, весна, мы каждый день пили березовый сок. Мой друг, ком. 2го отделения как-то предложил прогуляться до ближнего хутора, где у него появились знакомые. Ротный был в отъезде, взводный не возражал, и я согласился. Это была моя первая самоволка за всю службу, но старикам, а мы уже были ими, такое прощали. Дав своим отделениям задания копать отсюда и до туда, поставив метки и назначив старших, мы быстрым шагом прошли через рощу к крайней хате. Там нас как будто уже ждали. Это была приятная пара, муж и жена, их сын тоже служил где-то. Выпили горилки под нехитрый закус, горячая картошка, соленые огурцы... А потом неожиданно: " Споем? - Давайте, а что? - А мы начнем, а вы подпевайте...
Як шо калына нэ цветээ, то нэ рубай калыыну,
Як шо ты в армыю идээшь, то нэ кохай дывчыну...
Був я, був я дывчинОнько у твояму садуу,
Чув я, чув я, як прысягалась другому козакуу... "
И мы подпевали, а из глаз слезы...
Времени было мало и, обнявшись с хозяевами и взяв с благодарностью бутылку горилки для взводного, скорым шагом вернулись в роту, чтобы принять работу у молодых, поворчав для порядка, и вести их на обед. Вот так и шли последние месяцы, пока вдруг не вызвали на штабную точку - подписывать обходной.

Мои любимые старики: Ст.нормировщик части Владимир Кривошеев, санинструктор Кайдар Тулетаев, справа мой предшественник на посту секретаря комитета комсомола Евгений Богданов. Второй слева - калькулятор продчасти, имени, к сожалению, не помню. Эти ребята закончили службу вместе со мной, поскольку они призывались на 3 года, а мы только на 2. Какое-то время мы с Володей, Кайдаром и Женей переписывались.
ВНИИОФИ. Осень 1970
Прошли 2 года службы, я вернулся на работу в свой отдел во ВНИИ оптико-физических измерений. Сначала пришлось поработать 2 недели грузчиком на складе стройматериалов, пока шла проверка в спецотделе. А мой отдел за время моей службы в стройбате переехал в уютную церквушку на Самокатной улице. Эту церковь на горке знали все, она так живописно смотрелась с берега Яузы, несмотря на то, что от купола тогда оставался только проволочный каркас. Это Храм Живоначальной троицы у Салтыкова моста, сейчас она отреставрирована и действует. На втором этаже, на перекрытых хорах, размещались разработчики, а мы, группа радиомонтажников, уютно размещались внизу, в отгороженной половине средней части храма. В алтаре, конечно, сидело начальство.
Ко времени обеда на паперти появлялась бабуля с большой корзиной жареных пирожков-лаптей. Сейчас таких уже не купишь, а они были вкусные - с мясом, тушеной капустой, рисом и яйцами, творогом, и конечно с яблочным повидлом, памятные еще со школьного буфета: у каждого пирожка обязательно имелась дырка, которую нужно было сразу найти, чтобы не перемазаться. Кстати, вредный совет: хулиганы, сидящие обычно на последних партах, съедали по пол-пирожка, а вторую клали на парту откушенной частью вперед, слегка придавив откидной крышкой, потом с силой ударяли по ней кулаком. Повидло летело вперед под углом около 15 градусов, иногда долетая до классной доски, но чаще до чьего-нибудь затылка. Своих предупреждали. Но это бывало в школе, в 8 классе. А в институте нам давали за вредность бесплатное молоко в пирамидальных пакетах, пирожки были дешевы, таким образом за 2 дня экономилось 70 коп на грампластинку среднего формата, а за 3 дня - 1руб 30коп на большой диск. Так я собрал почти всего Чайковского (кроме опер), много Баха и Бетховена, начал собирать Брамса. Записи авторских песен обходились дешевле, надо было покупать только кассеты для магнитофона и переписывать друг у друга. Этим же занималась и моя одноклассница Наташа, учившаяся на Биофаке МГУ. В сентябре 70го мы с Наташей поженились и объединили свои фонотеки.
Все было хорошо, но в апреле, как обычно, был объявлен ленинский субботник, а меня, зная об армейских комсомольских заслугах, к этому времени выбрали комсоргом отдела. Отдел был разбросан по нескольким территориям, я по телефону объяснил народу, что надо бы выйти на субботник, где и когда сбор. А сам не пошел - очень не хотелось оставлять беременную Наташу одну в выходной день. Ребята в отделе подумали, что субботник - дело добровольное, и многие тоже не пошли. Таким образом, от нашего отдела вышли на субботник процентов 10, и без комсорга. На институтском собрании меня осудили и, не видя раскаяния, вкатили выговор с занесением "За развал работы в комсомольской организации отдела". В бюро райкома, куда меня вызвали для утверждения выговора, были крайне удивлены, прочитав в учетной карточке, что я в армии справлялся с организацией в 500 комсомольцев, а тут развалил группу в 20 человек, но раскаяния тоже не увидели, и утвердили занесение в карточку. Несмотря на приобретенный в армии пофигизм, мне конечно было обидно, что нормальные с виду ребята так серьезно играют в комсомол и говорят нужные, но пустые слова, и я стал пассивно искать новую работу.
Спусковым крючком сработал Валера Кузьмин, одноклассник, которого я рекомендовал в свой отдел письмом из армии нашему бригадиру Володе Коршунову. Валера был в прошлом самбист, как сейчас говорят - качок, и начальство нещадно его эксплуатировало на строительстве нового здания института в Востряково. Валера всегда говорил правду-матку, даже когда был не очень прав, а тут уж он прямо заявил, что использовать работника не по специальности можно не более скольких-то процентов времени в год. Я его поддержал, предложил на стройку себя, тем более что после стройбата умел класть кирпич и копать геометрически правильные траншеи, но начальство меня как радиомонтажника с радиолюбительским стажем ценило выше, и мне было сказано не лезть куда не суют. Тут уж я совсем обиделся, и мы с Валерой уволились. Он устроился на завод электромедицинской аппаратуры, а я подвис, поскольку абы где работать не хотел, а только в интересных местах. В СКБ биофизической аппаратуры в Орликовом переулке, рядом с домом, сказали. что вакансии есть - нужны мастера по ремонту центрифуг, но начальство в отпуске, и надо ждать. Прождав 2 недели, понял, что еще немного - и стаж прервется. Тогда это было важно.
МНИИПА
Найти новую работу помог случай, точнее - большой начальник из министерства радиопромышленности Марик Давыдович (фамилию не помню), пожилой любитель одинокой рыбалки, очень располагающий к себе мужчина. Он отдыхал в палатке на берегу озера Селигер рядом с моей мамой, младшими сестрами и братом, а я приехал по просьбе мамы на несколько дней, чтобы помочь им вернуться в Москву. Проникшись симпатией к нашему семейству и поняв мою ситуацию, он дал на всякий случай свой телефон. По его протекции я и попал в МНИИ Приборной Автоматики, на Красноказарменной улице, напротив МЭИ. Это была последняя ступень на длинной лестнице к ее высочеству Электронной микроскопии.
Зав.лаб. Балтуркевич, к которому меня направил волшебник с берега Селигера, встретил сухо, как блатного. Ни о чем не спросил, толком не объяснил, чем буду заниматься, и молча посадил на стул в коридоре отдела кадров с подписанным заявлением о зачислении на должность лаборанта. Ожидание затянулось, настроение было препоганое. И тут в коридоре появился приятного вида пожилой начальник, поздоровался и прошел в ОК. Выйдя минут через 15, спросил меня, кто по специальности и куда оформляюсь. Я сказал, что радиомонтажник и протянул заявление. "А на ремонт приборов в БИП пойдете?" - " Пойду, если научите." И меня зачислили инженером по ремонту радиоизмерительных приборов! Фамилию этого замечательного человека, начальника БИП, точно не могу вспомнить, кажется Крылов, но я попал в удивительный коллектив! Молодые культурные ребята, рукастые и с юмором, строгие и компетентные начальники участков. И кого ни возьми - личность!
На участке ремонта электроизмерительных приборов работали в основном девушки, виртуозно, как японки, паявшие растяжки стрелочных индикаторов. Был еще участок поверки, где работали солидные дамы и один симпатичный и добрый, но неумеющий паять парень. Наш участок ремонта радиоизмерительных приборов был чисто мужским, но летал выше: генераторы, осциллографы, ламповые вольтметры и.т.п. Цифровые вольтметры и частотомеры были еще редкостью, их ремонтировал только один человек - ст. инж. Вася (фамилию забыл), студент 5 курса МЭИ, наш добрый гений и советчик. Были еще 2 яркие личности: Коля Горшков - наш комсорг, источник неистощимой энергии и шуток, и Володя Руденко - бывший моряк-подводник, очень знающий электронщик, источник анекдотов и своеобразного юмора, любивший в меру выпить. Он-то и сыграл решающую роль на моем пути в электронную микроскопию. Шутки Коли были просты и прозрачны: показать протертую до дырки подошву ботинка со словами "Через год неважный будет", подложить пару лишних винтов, чтобы ты при сборке прибора чесал затылок и думал, куда их забыл завернуть, но взгляд на его сияющую физиономию сразу все объяснял. Шутки Володи были иногда жестоки: когда ему попал в ремонт запоминающий осциллограф, он ручками X и Y написал лучом на его экране слово из 3х букв и выключил прибор. После перерыва на обед, когда напряжение на стендах снова включили, они позвал пожилого мастера участка Ивана Семеновича и попросил включить осциллограф - "Там какая-то ерунда непонятная". Все были в курсе, и возглас мастера "Что за чертовщина?!" при появлении этого слова на экране встретили восторженным хохотом. Мастер был умным и добрым, и не обиделся. (Для компьютерно-грамотной молодежи поясняю: В то время никаких PC, HD, DRAM, ROM и т.п. еще не было. Были ламповые и транзисторные ЭВМ. А наш осциллограф запоминал осциллограммы прямо на экране, сохраняя заряд, принесенный туда электронным лучом.) У Володи была тайная общественная должность - он был пивным тренером нашего участка. Раз в 2 недели, обычно в день зарплаты, он объявлял тренировку, и мы ехали в Лефортовский парк, где на живописном берегу пруда с видом на Яузу и МВТУ имени Баумана пили пиво и играли в шахматы, взятые напрокат. Играли партии блиц с часами, и если кому надо было отлучиться в туалет, а пиво этого требовало часто, он терпел или признавал поражение. Проигравший покупал всем по кружке. Вот тут-то, за пивом и шахматами, и произошла судьбоносная встреча с Электронной микроскопией!
Я играл с Володей, он явно выигрывал, но вдруг стал задумываться и прислушиваться к разговору за соседним столиком. А оттуда звучали малознакомые слова "конденсор, стигматор, дисторсия..." и произносили их два интеллигентных человека - один наш ровесник, другой старше, явно начальник первого, недавно пришедшие сюда и не успевшие выпить даже по первой кружке. Володя неуверенно произнес: "Лёнька?" . Молодой сосед ответил: "Вовка?!" - и начались объятия и воспоминания друзей детства. Володя переместился за их столик, я остался без партнера и следил за игрой Коли с Васей, лениво прислушиваясь к разговору. А разговор шел интересный, о капризном электронном микроскопе, который постоянно барахлит, его нужно настраивать, чистить, юстировать, а инженера нет. Володю пригласили приехать в институт фармакологии помочь советом опытного электронщика, и он обещал им позвонить.
Дойдя до кондиции, мы тогда разъехались по домам, а дня через два Володя рассказал о красивом и сложном приборе, позволяющем видеть атомы, и что его пригласили туда работать старшим инженером на 110 рублей с перспективой повышения до 130. Я молча завидовал, т.к. уже читал про электронные микроскопы в Технике молодежи. Через неделю, не видя со стороны Володи активности, я спросил о его решении, и когда он ответил, что ему смысла переходить нет, зарплата та же, я попросил рекомендовать меня на это место. Он с радостью согласился, и дня через 2 уже я ходил вокруг сверкающей хромом и серой молотковой эмалью 1,5-метровой колонны сумского просвечивающего электронного микроскопа УЭМВ-100Б в подвале института фармакологии АМН СССР на Балтийской 8, недалеко от метро Сокол.
Отпускать из МНИИПА не хотели, даже нашли почти такой же микроскоп в нашем институте, но я уже хотел работать именно с биологами, с перспективой помочь Наташе в изучении механизмов иммунитета. Описывать как я осваивал сумскую чудо-технику можно долго, ограничусь только яркими и смешными моментами.
НИИ Фармакологии АМН СССР
Когда зав группой электронной микроскопии Вячеслав Александрович Арефолов выложил мне все, что знал сам о ТЭМ, а моим вопросам не было конца, он пригласил двух опытных инженеров из Союзмедтехники, Наяшкова и Купцова, к сожалению не помню их И.О. От них я узнал кучу всяких секретов: как юстировать колонну сумского микроскопа, которая из-за накидных резьбовых колец для крепления каждой линзы вела себя как Шуховская башня на ветру, как фотографировать с ручным отсчетом выдержки и паузами для гашения вибраций (фотозатвором служила поднимающаяся вручную центральная часть люминесцентного экрана), и многое другое.

В один из первых рабочих дней, после вводных бесед о тематике исследований нашей группы и знакомства со всеми сотрудниками, а кроме зав. лаб. и аспиранта Лёни Панасюка, знакомых мне еще по пиву в Лефортово, в группе был еще техник-фотограф Миша Дыкуха и лаборантка, кажется Света, меня наконец оставили наедине с микроскопом и документацией. Уединение было недолгим: сначала с таинственным видом зашел шеф и почти шепотом сказал: "Толя, я покажу вам экстренный запас спирта, о котором знаю только я, а теперь и вы". И показал наполовину заполненную 5-литровую бутыль, спрятанную в правой тумбе микроскопа, за металлической дверкой с винтовыми запорами. Я поблагодарил, сказав, что без его разрешения не возьму, и снова погрузился в чертежи и схемы. Через полчаса зашел Лёня, и не менее таинственно показал мне ту же бутыль со словами: "Шеф про нее забыл, а нам с тобой она может пригодиться". На следующий день эту же тайну открыл мне фотограф Миша. Здесь будет уместно рассказать, что отечественная аппаратура вообще имела много свободного места внутри корпусов, что очень разумно с точки зрения вентиляции и доступа для ремонта, ну и конечно для устройства всяких заначек. Например, у вакуумного испарителя ВУП насос стоял снаружи, а внутри умещалось не менее 10 бутылок пива. Там же накапливали и пустые бутылки, чтобы при случае сдать. В японской ЭМ-аппаратуре таких пустот практически нет, у японцев все скомпоновано плотно.
Институт имел 2 интересных научных отдела - отдел синтеза лекарственных препаратов и отдел биологических испытаний. Во главе стоял академик Василий Васильевич Закусов. Мне конечно в первые же дни показали толстый том его Фармакологии с главой Фармакология этилового спирта, где было четко обосновано, чем его, т.е.водку, нужно закусывать. Оказалось, что селедка, огурцы и грибы - это если пьешь 1 - 2 рюмки, а если сидим хорошо, то нужны сорбенты, и на первом месте вареная картошка, чтобы снизить скорость всасывания и дать время алкогольдегидрогеназе работать, не давая концентрации этанола дойти до токсичных значений. Вот такая теория закусывания по Закусову!
Чем занимались в институте химики - понятно, они синтезировали вещества, перспективные в качестве основы новых лекарств, а вот биологи-испытатели... Рядом с кабинетом директора на 2 этаже висели стенды, на одном из которых меня поразила чья-то кандидатская диссертация: "Маятникообразные движения хвоста кошек как индикатор для оценки реакции на внешние раздражители в норме и на фоне действия психотропных средств" . Знаменитый кот с похожим на корону круглым разъемом на голове для снятия биопотенциалов бродил по всем коридорам, выпрашивая еду. А вот мышам приходилось туго - их катали на диске с едой в центре, постепенно повышая обороты, пока половина контрольной группы не срывалась с гладкой поверхности. Опытной группе вводили нейролептик, и они срывались на меньшей скорости.
Наша группа ЭМ входила в состав отдела фармакологии нервной системы и занималась оценкой влияния нейротропных средств на синтез нейромедиаторов. Моделью был крысиный Ductus deferens - семявыносящий проток, отличаюшийся тем, что у него иннервация чисто адренергическая, и его единственный нейромедиатор - норадреналин - хорошо выявляется на ТЭМ-изображениях в виде электронноплотных гранул. Можно легко оценивать их количество на единицу площади сечения нервного окончания в норме и под действием нейротропного препарата. Лёня занимался препарированием, включая заливку в аралдит, ультратомию и контрастирование соединениями свинца, я обслуживал электронный микроскоп, шеф делал сотни микроснимков на фотопластинки, Миша проявлял их и печатал на фотобумагу, Лёня ставил точки тушью на гранулах норадреналина и обводил контуры нервных окончаний, лаборантка накладывала на фотографии кальку, дублировала на ней контуры, вырезала их из кальки и взвешивала на аналитических весах (вес был пропорционален площади сечений нервных окончаний), считала количество черных точек в пределах площади каждой отснятой пластинки и, наконец, рассчитывала плотность - количество гранул на единицу площади. Сравнение плотностей гранул в контроле и опыте служило мерой нейротропной активности испытуемого препарата. Это была "морфометрия", но ей предшествовала "физиология", где тот же проток подвешивали в растворе Кребса, прикрепляли к стрелке кимографа и стимулировали слабыми электрическими импульсами. Проток дергался, стрелка кимографа процарапывала линии на вращающемся барабане, обтянутом закопченной на свечке бумагой, пока проток не уставал. В раствор капали препараты, которые или взбадривали несчастный проток, или обессиливали его. Тут на него и набрасывался Лёня и кидал в глутаровый фиксатор, с последующим осмированием, отмывкой, обезвоживанием, заливкой в аралдит... Вы конечно уже поняли, что все загубленные жизни крыс-самцов были на совести Лёни, остальные занимались "чистой" работой. По результатам шеф с Лёней писали статьи в соавторстве с химиками-синтетиками и физиологами, которые истязали котов и мышей.
Конечно, я не смог спокойно смотреть на эту китайскую работу, и включил мозги. Удалось ускорить морфометрию, применив измерение площади прямо на фотопластинке палеткой, т.е.прозрачной пластинкой со сфотографированной на ней сеткой, вместо фотопечати, обведения контуров тушью, перевода их на кальку, вырезания и взвешивания. Площадь сечения нервного окончания оценивалась количеством целых клеточек наложенной сетки плюс количество половинок вверху и справа. Увеличение было стандартным - 10 тысяч крат, что сильно упрощало расчеты (масштаб при этом увеличении - в 1 см 1 мкм). Работа ускорилась, но микроскоп производства Сумкого завода оставлял желать... Для получения цифровых данных наши фотографии годились, но для публикаций нет, и шеф ездил снимать наши срезы на микроскопе Хитачи в дружественном институте Мозга, что на улице Обуха, недалеко от Курского вокзала.
И тут произошло чудо: наш директор академик Закусов был настолько обрадован тем, что при испытаниях одного из препаратов, кажется, этмозина, синтезированного в нашем институте, мы опередили питерских конкурентов, что решил купить нам новый микроскоп. Это был революционный для середины 70х просвечивающий электронный микроскоп JEM-100B японской фирмы JEOL (Japan Electron Optics Laboratory), со стабильной электронной оптикой и автоматизированной пленочной фотокамерой!
Согласовали спецификацию в Машприборинторге - по опыту работы с сумским микроскопом я попросил купить побольше запасных катодов. Через полгода в коридоре уже стояли 2 огромных контейнера, и соседи просили не выбрасывать японскую фанеру и пенопластовые колбаски. Мы в спешке демонтировали УЭМВ-100Б, которому я до сих пор благодарен как начальной школе инженера-микроскописта, а в конце апреля приехал круглолицый молодой японец Сигеру Нагатани, быстро все распаковал и затащил многочисленные коробки в лабораторию. Все делал сам, разрешал только смотреть, скупо отвечая на вопросы на приличном английском. Когда мы пригласили рукастых мужиков на перемещение основной консоли из коридора в лабораторию, главный инженер института решил продемонстрировать свое знание английского коронной фразой "Итыз вери коулд ин москоу тудэй, изнтыт?". Он произносил ее потом еще несколько раз вместо приветствия, с типичным московским школьным прононсом, и Сигеру-сан всегда с улыбкой вежливо отвечал "Йесытыз".
Монтаж был проведен быстро, микроскоп запустился сразу без проблем, и Сигеру-сан показал мне как на нем работать. Когда я в первом приближении все освоил и изучил пользовательскую инструкцию, решился спросить при типичные неисправности и приемы их устранения. Сигеру-сан конечно посоветовал звонить в ДЖЕОЛ, но при этом неосторожно оставил на виду довольно толстую сервисную инструкцию на японском, которую я, потратив часа 3 вечернего времени, сфотографировал "на всякий случай" на стеклянные пластинки на фотоувеличителе Беларусь, использовав принцип обратимости объекта и его изображения. Забегая вперед скажу, что годом позже эта фотокопия стала импульсом к поступлению на 2-годичные курсы японского. Отксерить инструкцию мы не решились, это было сложно во всех отношениях. Во-первых, нужно было получить разрешение в 1 отделе, а во-вторых, доступная в институте простым ученым копировальная установка Эра, первый отечественный "ксерокс", работала очень медленно: процесс получения каждой страницы копии занимал около 5 минут и содержал не менее 5 стадий с ручными манипуляциями: зарядка селеновой пластины, проецирование оригинала на заряженную селеновую пластину и "проявление" порошкового изображения, перенос порошкового изображения на бумагу, закрепление изображения в парах ацетона, очистка пластины. Для полноты впечатлений зайдите на https://vk.com/album-24822035_133048982 .Там же есть альбом Приколюшки, который имеет не только развлекательную, но и историческую ценность.
Кстати, "Эрой" заведовал очень уважаемый в институте человек Майор Григорьевич Ваншенбаум, основная должность которого была Заместитель коменданта по дверям и крыше.
Завершение монтажа и подписание акта о сдаче решили отметить банкетом. Попросили в дружественной лаборатории контрольного кролика, которому не вводили ничего, кроме физраствора, жена шефа его потушила с овощами, разбавили и настояли на лимонных корочках спирт, а Клюковка была в наличии всегда, и накрыли стол фотоувеличителя Беларусь в фотокомнате, самом труднодоступном для начальства помещении лаборатории. Сигеру-сан неуверенно поковырял кролика вилкой, потом достал из ЗИПа микроскопа бамбуковые палочки Хаси для чистки оптики, и сразу повеселел. Мы тоже попробовали, но как-то не получилось. Все-таки тушеный контрольный кролик - типично наше научное блюдо, его вилкой есть удобнее.
Этим банкетом закончился апрель, мы разошлись на первомайские праздники. Я проводил Сигеру-сана до гостиницы Ленинградская, где тогда был московский офис фирмы ДЖЭОЛ, и пошел пешком домой, благо идти было 10 минут. А накануне выхода на работу мне позвонил взволнованный шеф с вопросом - когда я в последний раз видел Нагатани. Оказалось, он исчез из Москвы и шефа вызывали по этому поводу в органы. Потом выяснилось, что Сигеру-сан по приглашению знакомого инженера поехал на праздники к нему на дачу, не поставив в известность свое начальство. Этого ему не простили - отправили в Японию. Я остался один на один с JEM-100B, без дополнительного обучения, на которое очень рассчитывал.
Началась довольно интересная, но однообразная жизнь. Микроскоп радовал всех своим импортным видом, от хромированных винтиков с крестообразными шлицами до волшебного пневматического подъемника электронной пушки. Шеф просил меня показывать этот номер каждому гостю лаборатории. А как этот микроскоп рисовал... Только снимали на нем довольно редко, от опыта до опыта он просто стоял на откачке, с чистой оптикой, отъюстированный и откалиброванный. Микроскопистов со стороны шеф не приглашал и, как впоследствии оказалось, правильно делал, чтобы меня случайно не переманили. Будничная скука примерно раз в месяц разряжалась поездками за жидким азотом в Балашиху. Как правило, нам давали крытый грузовичок ГАЗ-51, водителем которого была уверенная в себе полная женщина средних лет, к сожалению, не помню ее имени. Она легко поднимала наполненные азотом 15-литровые Дьюары в кузов, лихо лавировала в пробках. Молодого водителя самосвала, имевшего наглость подсечь нас, она догнала на светофоре и так отделала пятистопным ямбом, что покраснел даже я, имевший за спиной школу стройбата. Азот в Дьюарах иногда так и не дожидался работы на микроскопе и печально выкипал, понижая концентрацию кислорода в воздухе лаборатории. Впрочем, наш расчетливый и довольно жадный шеф охотно делился жидким азотом с любым сотрудником нашего и соседних институтов (а их было еще 4 в нашем здании на Балтийской 8). "Только для Вас...", всегда говорил он.
Дежурным развлечением были обеды в Стекляшке в Головановском переулке, куда можно было пройти и по Усиевича, и по Часовой. Все было дешево и вполне съедобно, а аспирант Виктор Карпович (это отчество, а не фамилия), колоритная личность с бородкой и кучей знаний в голове, веселил нас тем, что сразу перекладывал второе в тарелку с супом, и ел все вместе, "чтобы не остыло". Бывали у нас и батальные сцены. Как-то шеф пришел к Мише за фотокопией статьи (директорский ксерокс был недоступен, а Эра ... была описана выше). Миша в это время сушил на электроглянцевателе АПСО-5М (кто не застал это чудо техники с зеркальным 80-сантиметровым горячим цилиндром - много потерял!) фотографии своей семьи на отдыхе. "Миша, где копия статьи? - Сейчас закончу и займусь этим. - Как, вы еще даже не начинали?! Сейчас же прекратите эту бытовуху и займитесь делом!! - Сейчас закончу и займусь. - Нет, вы начнете сейчас же !!!" И шеф, зайдя сбоку, толкнул Мишу бедром. Но не на того напал. Коренастый Миша Дыкуха, оправдывая свою редкую фамилию, отшатнувшись на пол-метра, тоже в ответ пихнул шефа бедром. Пихаясь таким образом и призывая меня в свидетели, они попортили часть мишиных семейных фото, которые надо было своевременно снимать с раскаленного зеркального барабана. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы шефу кто-то ни позвонил.
Да, чуть не забыл описать еще одно направление работы лаборатории - люминесцентную микроскопию. Те же семявыносящие протоки в контроле и после инкубации в питательной среде с нейротропными препаратами, а также истощенные стимуляцией электрическими разрядами, подвергали лиофильному высушиванию и проводили реакцию Фалька с параформом, в результате которой образуется флуоресцирующее соединение. Потом заливали в парафин, резали и смотрели в люминесцентном микроскопе с фотометрическим блоком. Лиофильное (криогенно-вакуумное) высушивание - процесс многочасовой, поскольку скорость сублимации замороженной воды при температуре жидкого азота очень мала. Стеклянный аппарат для высушивания с 1-литровым резервуаром для жидкого азота подключали к вакуумной системе нашего второго сумского УЭМВ-100Б на 2 - 3 суток, и мы трое - Лёня, Миша и я - по очереди дежурили ночью, подливая азот через каждые 4 часа, по будильнику. Спали на старом узком химическом столе, на надувном матрасе. Я переносил эти ночевки легко, а вот Лёне снились кошмары. Один раз на него напали сотни безголовых крыс, которых он декапитировал ради 2-сантиметрового семявыносящего протока, в другой раз ему приснились похороны маршала Будённого, за гробом которого шла вереница рыдающих женщин с детскими колясками... Мы с Мишей ржали, а полусонному Лёне было тоскливо.
После того, как новый микроскоп был обкатан и освоен, мне стало почти нечего делать, поскольку микроскоп не ломался, прекрасно держал юстировку, и чистить оптику просто для порядка не было смысла – она не загрязнялась ввиду крайне малой загруженности микроскопа и наличия антиконтаминационной азотной ловушки. Катоды в условиях хорошего вакуума не хотели перегорать. Микроскоп использовался не чаще 2 часов в неделю, остальное время просто стоял под откачкой. Шеф, видя какие толстые книги я стал читать, чтобы убить время, предложил мне научиться резать на ультратоме, и это оказалось не так уж сложно. Глаза были ясными, руки не дрожали, шведские ультратомы LKB-III отличались простотой и надежностью, предварительно ориентировать блоки не было необходимости. Я начал резать, потом научился красить срезы свинцом по Рейнольдсу. Снимать на новом JEM-100B я уже умел хорошо и тоже стал это делать сам, освободив шефа и Лёню. Скоро и это стало серыми буднями, и шеф отправил меня на курсы ультратомии, которые проводила фирма LKB в Институте мозга. Занятия вел голландец Хенк Боррэ, который не столько учил резать - это и так все умели - сколько развлекал нас байками из жизни электронных микроскопистов. Запомнился рассказ о том, как его пригласили в одну лабораторию разобраться с появлением странных чешуйчатых артефактов на сетках по пятницам. Оказалось, что причиной был сухой шампунь, остатки которого лаборантка, ходившая по пятницам на танцы, вычесывала из своей шевелюры под тягой, где потом контрастировала сетки со срезами. Вывод г-на Боррэ был категоричным: электронный микроскопист не имеет права курить, особенно в дни работы со срезами. И показал нам фотографии с частицами табачного дыма.
На память от этих курсов у меня остался диплом с печатью фирмы и ленточкой в цветах шведского флага, и "кривой" шведский пинцет, который и сейчас используется на даче для извлечения заноз из пальцев. А еще я познакомился на этих курсах с Эдуардом Моносовым, интереснейшим специалистом и рассказчиком, который, как я узнал позже, работал на Биофаке МГУ с моим будущим шефом Г.Н.Давидовичем.
Ультратомную тему хочу завершить рассказом о трагикомическом эпизоде. В тесной комнатушке в полуподвале умещалось два ультратома и вытяжной шкаф, квадратная железная труба от которого выходила в окно, смотревшее во двор института. Сижу я как-то за микроскопом, снимаю нервные окончания. Вдруг дверь распахивается и вбегают шеф и Лёня: Толя, бросайте все, у нас катастрофа - по ультратомной бродит кот! Я пошел с ними, посмотрел в приоткрытую дверь и понял что их ужасает: на столе ультратома стоит плашка с блоками - зафиксированными кусочками ткани, залитыми в аралдит в желатиновых капсулах. Лёня шепотом поясняет: блоки еще не промаркированы, и если кот их свалит на пол, пропадет месячная работа. Я говорю - а почему обязательно свалит, он спокойно так бродит и просто все нюхает. Давайте откроем дверь, он сам уйдет. Предложение шефа было более научным - плеснуть на пол эфира, чтобы кот ушел поскорее или заснул. Леня пошел за эфиром, принес его в шприце, и вдруг, не советуясь с нами, брызнул коту прямо в морду! Что тут началось... Кот начал с душераздирающим воем носиться по столам, повалил все, что не было закреплено, и наконец выскочил в открытую форточку, через которую и проник в комнату. Лёня потом ходил неделю понурый, говорил, что сам не знает, почему брызнул прямо на кота. Мы молча его жалели, заливку-то ему переделывать, но благодаря лёниной неаккуратности часть капсул приклеилась аралдитом и осталась в углублениях плашки на своих местах, несмотря на ее падение на пол.
Чтобы еще больше заинтересовать меня наукой, шеф включил меня в авторский коллектив, но эффект оказался обратным: в первой же статье, кажется по этмозину, которым, по-рассказам шефа, лечили Аркадия Райкина, я увидел несоответствие данных тому, что показывали обсчеты наших ТЭМ-снимков. Я задал наивный вопрос и получил в ответ развернутую картину научной конкуренции, откуда следовала необходимость "несмотря на некоторую противоречивость наших данных, опубликовать их раньше наступавших нам на пятки питерских коллег". Мне это очень не понравилось, и я отказался быть соавтором в следующих статьях.
Биофак МГУ. Май 1975
Изучая от скуки альбом схем на электронику JEM-100B, я с удивлением обнаружил отсутствие схемы на выпрямительный блок 205. Схему эту можно было нарисовать и самому, настолько прост и доступен был монтаж блока, но тут Наташа, учившаяся тогда на последнем курсе Биофака, сказала, что факультетская лаборатория электронной микроскопии недавно получила новый микроскоп JEM-100B, и она может попробовать договориться о моем визите за консультаций. Я подумал, что уж университету-то точно дали полный альбом схем, да и вообще поговорить с инженерами будет полезно, и поехал в МГУ.
Зав.лаб. Георгий Натанович Давидович, которому меня представила Наташа, был полной противоположностью моему шефу: никакой солидности в теле и речи, тонкий и стройный, с густой вьющейся шевелюрой и быстрым оценивающим взглядом. Он только кивнул на мою просьбу сфотографировать схему и предложил сначала пройтись по лаборатории. Я увидел 3 просвечивающих микроскопа - 2 Хитачи и JEM-100B - и сканирующий Хитачи, мечта, на реализацию которой я безуспешно подбивал свое руководство (ответ был один - у нас нет задач). Схему блока 205 я конечно переснял, а потом вдруг получил от Давидовича предложение перейти к ним работать. Все внутри закричало - Да, конечно! - но хватило выдержки взять неделю на раздумья.
Конец раздумьям положила Татьяна Алексеевна Никольская из института химфизики, старая знакомая шефа, которую он неосторожно пустил поработать на наш микроскоп. Она потратила много лет на выяснение морфологических различий между Т- и В-лимфоцитами. Впрочем, не она одна. Пока откачивался очередной фотомагазин, а снимала она много и быстро, я поделился своими сомнениями, и услышал неожиданное: Это какой Давидович? Рыжий что-ли? На Биофаке? - Да нет, говорю, не рыжий, разве самую малость... - И вы еще думаете! Бросайте это болото и переходите! Будет хлопотно, но интересно, а здесь вы закиснете. - Я до конца жизни буду благодарен Татьяне Алексеевне за эти решающие слова.
Вот так я и оказался на Биофаке. Отпускать из Фармакологии не хотели, снова давили на комсомольскую совесть, но этим меня уже было не взять. Даже не стал сниматься с учета и вставать на учет в МГУ, к этому времени мне уже было почти 28.
На этом закончилась история поисков интересного дела и началась история моего профессионального растворения и кристаллизации, напряженной и интересной работы, а проще сказать - жизни в нашей лаборатории, которая продолжается с 1975 года, вот уже 50-лет. Когда-нибудь напишу и об этом, материала в голове скопилось много. Если хватит здоровья и не подведут глаза - попробую объединить все это в книге с названием "Микроскописты". Часть событий и воспоминаний коллег уже описаны в очерках "Микроскописты вспоминают" http://agbogdanov.ru/poetry/view/207 и "Люди и микроскопы. Из истории лаборатории" https://agbogdanov.ru/poetry/view/209.
Летом1986 г. по предложению коллеги - микроскописта Славы Васина, зав. лаб. ЭМ центра микрохирургии глаза, я решил немного подработать и провел отпуск на шабашке. У нас с Наташей было двое детей-школьников, и денег хронически не хватало, несмотря на переводы с японского в ВЦП. Мы восстанавливали развалившийся коровник в селе Молоково Краснохолмского р-на Тверской (тогда Калининской) области. Читайте автобиографический рассказик На шабашке с фотографиями инженера-микроскописта в роли каменщика. https://agbogdanov.ru/poetry/view/255